
Публикации
О психологии одиночества. Часть 1

Известный американский врач Джеймс Джобсон, размышляя о современном ему западном обществе, с грустью писал: «Увы, временами мне кажется, что наше общество состоит из двухсот миллионов одиноких морских чаек, самодовольных и кичливых в своей независимости, за которую они платят непомерную цену одиночества и страха». Это ведь написано о тех так называемых цивилизованных странах, где индивидуализм, обособленность исторически традиционны. И тем не менее «не все в порядке в Датском королевстве»: множество людей сегодняшнего Запада страдают психическими расстройствами, порожденными страхом одиночества и атомизацией общества. Не сказать, что на Западе нет места для общения. Западный мир вполне общителен. Там существует масса пособий, телепередач, курсов, где учатся общаться. Даже в наш язык уже вошел термин «тренинг общения». Но дело в том, что поверхностное, светское, легкое общение, принятое на Западе, не рождает глубинные, полноценные и здоровые связи между людьми.
В России традиционно культивировался иной образ жизни – общинно-коллективный. Соборный. Церковный уклад пронизывал в той или иной мере все сферы жизни людей. Одно из имен Церкви – кинония. Кино́ния – (от греч. κοινωνία (кинониа) – сообщество; общность; соучастие, сопричастность, связь, общее дело; пожертвование, сбор средств с целью помощи (в том числе денежный сбор)) – богословский термин, указывающий на теснейшую общность и/или общение верующих с Богом и друг с другом; в особом смысле употребляется при обозначении евхаристического единства. Человек в российской традиции мыслился всегда как соборное существо, а не самозамкнутой монадой, индивидуумом. Индивидуализм рассматривался как нечто патологичное или порочное, а не нормативное или добродетельное. Но, к сожалению, и наше общество, вставшее на путь вестернизации, во многом страдает сейчас теми же духовными недугами, что и общество западное. Проблема одиночества уже не имеет какого-то национального лица и охватывает весь глобальный современный мир.

Давайте попробуем порассуждать о духовно-психологических корнях одиночества.
Томасу Вульфу принадлежат такие пронзительные строки: «Нагие и одинокие приходим мы в изгнание. В темной утробе нашей матери мы не знаем ее лица; из тюрьмы ее плоти выходим мы в невыразимую глухую тюрьму мира.
Кто из нас знал своего брата? Кто из нас заглядывал в сердце своего отца? Кто из нас не заперт навеки в тюрьме? Кто из нас не остается навеки чужим и одиноким?»
«Мы обречены на пожизненное заключение в одиночной камере.» Эти слова барабанной дробью звучат в сознании современного человека. Ибо одиночество, отчужденность от окружающего мира, чувство заброшенности и неприкаянности стали нашим тяжелым экзистенциальным бременем и наказанием за разрыв глубинных отношений с Богом.
Мы выходим из лона семьи, из маленького одиночества, в общество – одиночество большое и неисчерпаемое.
Кто не поставит свою подпись под тютчевским «Silentium!»: «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?».
Едва научившись говорить и думать, мы тут же кричим, что нас не понимают, не ценят, не любят… Мы пытаемся добиться понимания, неравнодушия и любви не мытьем, так катаньем: покупаем, завоевываем, играем, истерим, манипулируем, выпрашиваем, требуем… В конечном итоге чаще всего приходим к осознанию полной и тотальной невозможности ее получить, впадаем в тоску, уныние и отчаяние. Потом как-то успокаиваемся, придумываем искусственный заменитель для недостижимого: вежливость, этикет, любезность, формально-деловые, партнерские отношения. Строим пресловутые личные границы, блюдем внутреннюю дистанцию по отношению к другим.

Но заменители все же не помогают. Да, они создают иллюзию нормальности, но не питают и не греют душу. В них нет той силы, тех питательных веществ, которые необходимы для нашей личности, для того трепетного, слабого, обделенного существа, которое сидит в нас и беспрестанно требует пищи, не довольствуясь химической эссенцией, которой мы его пичкаем. Оно болеет, страдает, жутко мучается и никак не хочет оставить в покое другое наше «я», которое с одержимостью гонится за деньгами и статусом, за удовольствиями и развлечениями.
Эту отчужденность, неродство с миром каждый осознает и формулирует по-своему. Кто-то проносит их через жизнь с покорностью, как тяжкий крест, другой – с гордостью, как полковое знамя, третий – как защитный бронежилет.
Конечно, опыт одиночества у каждого свой, индивидуальный. Но как бы мы ни объясняли собственную отчужденность, в независимости от того, кажется ли она нам благом или проклятием, мы воспринимаем ее как аксиому, как предпосылку, исходное условие нашего бытия.
«Мы говорим на разных языках.» К такому выводу приходим мы однажды, пытаясь объяснить кому-нибудь всю глубину своих переживаний или мыслей. Особенно остро воспринимается это в детстве. «Ну как же ты не понимаешь?!» – почти плачет ребенок, стараясь втолковать своему родителю элементарную вроде бы вещь. Да, взрослые – они другие. Они отличаются от детей, им не дано понять.
Но позже происходит еще одно страшное открытие: все люди другие. Никто не понимает. Каждый живет на какой-то своей планете, и нет уже межпланетных рейсов. Проклятие строителей вавилонской башни – тяжкая ноша человечества, взбунтовавшегося против своего Творца.

«Как сердцу высказать себя?» Как сделать так, чтобы тебя услышали и поняли?
Но нам отчего-то не так часто приходит в голову, что стоит научиться слушать – и все может решиться само собой. Мы сами выстраиваем вокруг себя стены, вместо того чтобы прокладывать мосты. Зачастую стоит прислушаться к словам собеседника, и ты поймешь, что уже битый час вы говорите с ним об одном и том же, называя это просто разными именами.
«Никто меня не любит», – осознаем мы еще в детстве. Люди эгоисты. Им нет дела до других. Родители, друзья, возлюбленные – все думают, прежде всего, о себе.
Отношения – вещь хрупкая и непостоянная. Сегодня есть, завтра нет. Мы звоним своим самым близким и родным людям, чтобы поделиться важными для себя переживаниями, своим горем или радостью, а они развлекаются, смотрят кино или спят – и мы чувствуем себя вновь преданными, оставленными, брошенными.
Мы с болью в сердце ощущаем одиночество: все люди чужие, никто нас не может понять, никому мы не нужны, никто нас не любит.
В три часа ночи накатывает какая-то глубокая тоска, и мы роемся в своем смартфоне, прикидывая, кому можно позвонить в такое время. Выясняется, что некому. Да и незачем.
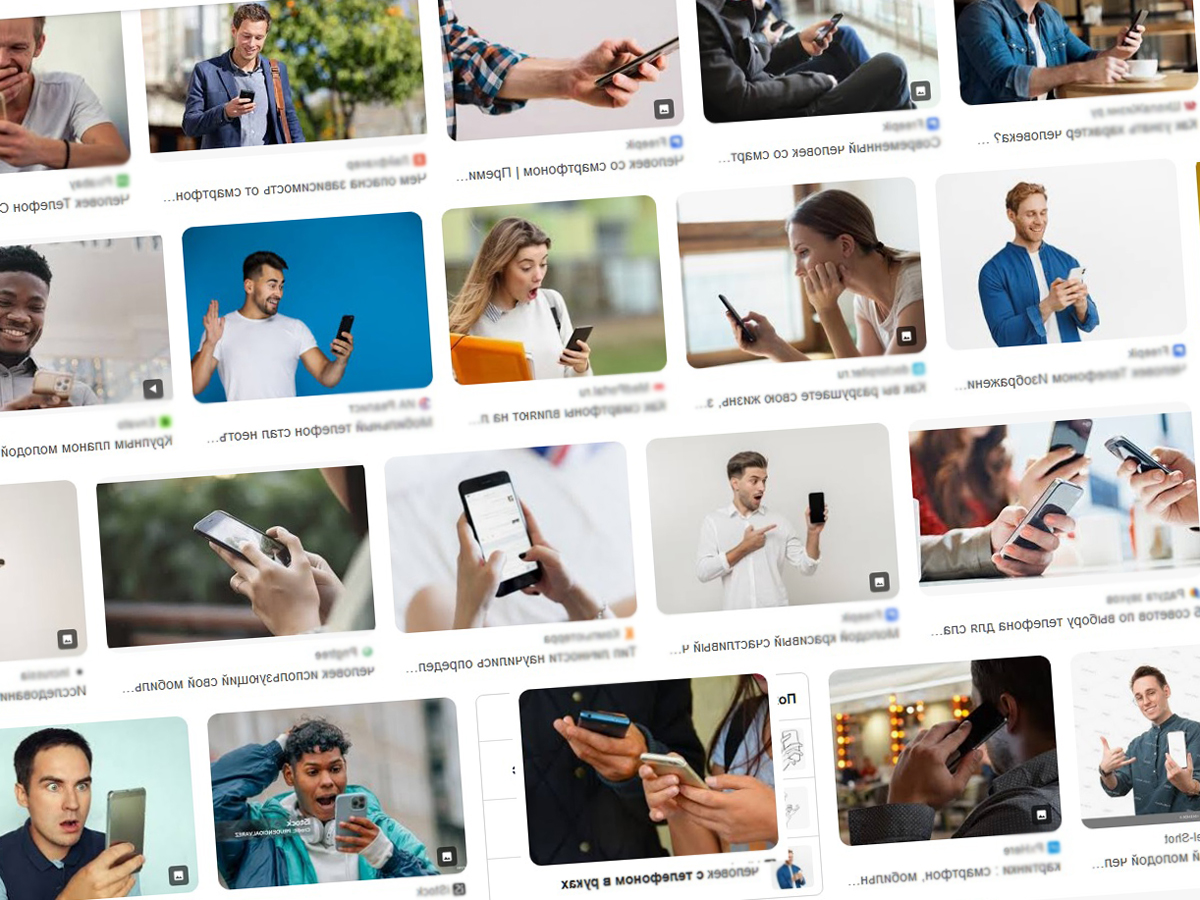
Осознав свою ненужность, человек пытается что-то изменить. Но тщетно. Купить любовь и внимание окружающих не удается. В результате обильных подарков, услуг и теплых слов друзья и приятели иногда начинают грубо и развязно тебя использовать. Столкнувшись с подобным обращением, человек окончательно обижается на мир и поворачивается к нему спиной. Он либо уходит в себя, замыкается, становится неразговорчивым, угрюмым, хмурым, либо же принимает вид надменный, высокомерный, ведет себя грубо-эпатажно, отрицает авторитеты или подчиняет себе людей при помощи угроз и насилия.
В обоих случаях человек сам себя изолирует. Он делает это назло миру, мол, «раз вы так со мной обращаетесь, то и не нужна мне ваша любовь, подавитесь вы своими теплыми чувствами». Стоит ли говорить, что хуже он этим делает только себе.
Проблема изначально состоит в самом человеке. Описанный симптом нередко имеет возрастную характеристику. Чувство собственной ненужности и изгойства более всего преследует подростков (хотя оно может сохраниться и во взрослой жизни, вернуться остротой в среднем или пожилом возрасте). В период, когда происходит личностное, мировоззренческое становление человека, юное существо испытывает острую потребность осмыслить происходящие в нем перемены, в результате чего замыкается на самом себе. Этот эгоцентризм сразу сказывается на его отношениях с ровесниками, которые точно так же зациклены на себе, и с родителями, которые априори не воспринимают своего ребенка как объект понимания (как говорила одна бабушка: «Все, что ты знаешь, я уже успела забыть»).
Таким образом, в подростковом возрасте человек зачастую оказывается не способен к нормальному общению в силу того, что слишком зациклен на собственной персоне. Но отсутствие этого общения травмирует, воспринимается как трагедия и заставляет подростка еще сильнее замыкаться на себе. Нередко проблема сама разрешается с возрастом. Иногда преодоление ненужности происходит через чувство влюбленности, которое переключает внимание подростка со своего внутреннего мира на другого человека.

Кроме того, нелюбимым и ненужным ощущает себя человек в минуты неприятностей, в самые трудные моменты своей жизни. Когда вроде бы так остро человек нуждается в поддержке и сердечном участии.
Еще один знакомый сценарий переживаний: «Я чужой на этом празднике жизни» – ощущение оторванности от других, невозможность слиться с обществом, в котором ты учишься, живешь или работаешь, нередко воспринимается человеком как серьезное несчастье, как ощущение изгойства и своей бездомности.
«Весь мир – театр, а люди в нем актеры.» Нередко слова эти произносятся с горечью и разочарованием. Очередное предательство: мы думали, что нас любят, а нас просто использовали.
Есть ли люди, которые избежали столкновения с человеческим лицемерием, с ложью и притворством? Впрочем, можно и иначе поставить вопрос: найдется ли человек, которому ни разу в жизни не приходилось спекулировать на чужом хорошем к себе отношении, который ни разу не обманул чужого доверия, ни разу, хотя бы неумышленно, не стал причиной разочарования другого?
Продолжение следует...
Иеродиакон Кронид (Полежаев)





